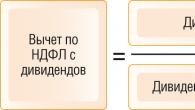Продолжая тему школьной программы в достойном оформлении, предлагаю вашему вниманию вечно актуальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова.
“Горе от ума” считается первой русской реалистической комедией.
Автор писал своему другу Катенину: “...в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека; и этот человек разумеется в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих”.
Лучшее резюме произведения:))
Помнится, когда читала "Горе" в детстве, все время поражалась, как столь молодой человек (на момент начала написания комедии автору был 21 год) мог придумать столько выражений, которые не только стали крылатыми, но и продержались столько лет. (уже почти 2 века). И до сих пор удивляюсь:)).
Постепенно отучаюсь нашими издателями и потому каждый раз удивляюсь, когда рисунки в книге столько точно располагаются рядом с текстом, и как это только удается?! :)))
Увидев иллюстрации Кузьмина, осознала, что именно так всегда и представляла себе героев. Посмотрите, может и ваши образы совпадут:)
А.С. Грибоедов ""Горе от ума"
Комедия в четырех действиях в стихах.
Иллюстрации художника Н.В.Кузьмина
Государственное издательство художественной литературы, 1952 г.
Тираж: 25 000 экз.



Павел Афанасьевич Фамусов

Софья Павловна

Алексей Степанович Молчалин


Александр Андреевич Чацкий



Полковник
Скалозуб
Сергей Сергеевич

Старуха Хлестова



Антон Антонович Загорецкий


Репетилов



Кузьмин Николай Васильевич (1890—1987) — советский художник-график, участник группы «13» член-корреспондент Академии художеств СССР, иллюстратор.
В 1909 г. девятнадцатилетний самоучка из провинции осмелился послать свои рисунки - подражание модному тогда англичанину О. Бердсли - в изысканный журнал московских символистов "Весы". Рисунки понравились В. Я. Брюсову, и их напечатали. Печатал виньетки Кузьмина и чопорный петербургский "Аполлон". Потом все-таки начинающему художнику пришлось учиться всерьез: у И. Я. Билибина в Рисовальной школе при ОПХ (1912-14), у П. А. Шиллинговского в петроградском Вхутеине (1922-24).
В конце 1920-х гг. в Москве сплотилась группа молодых художников, объединенных тягой к живому, быстрому, мгновенно откликающемуся на впечатления жизни рисованию, - группа "13". Кузьмин был одним из ее организаторов. "Рисовать без поправок, без ретуши. Чтоб в работе рисовальщика, как и в работе акробата, чувствовался темп!" - пояснял художник. С уличных зарисовок эта легкая манера была перенесена в книги. В "Евгении Онегине" А. С. Пушкина (1933) Кузьмин сотнями беглых рисунков иллюстрировал не столько сюжет, сколько авторские отступления, на лету брошенные мысли поэта, его лирические состояния, заставляя и читателя совершенно по-новому воспринимать знакомый роман. Кузьмин иллюстрирует русскую и западную классику ("Актриса" Э. де Гонкура, 1933; "Театр" А. де Мюссе, 1934, и др.) и книги современных авторов, особенно охотно книги о жизни писателей - А С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого. Его привлекают тексты иронические, пародийные: "Козьма Прутков" (1933), "Тартарен из Тараскона" А. Доде (1935).
(отсюда
http://www.artonline.ru/encyclopedia/304)
Еще вот такая статья о художнике хорошая
Родился в г. Сердобск Пензенской области, где окончил реальное училище. К этому периоду относятся первые опыты Н.В.Кузьмина в журнальной графике: в 1906 г. в журнале "Гриф" были напечатаны первые его рисунки. В 1909 г. девятнадцатилетний самоучка из провинции осмелился послать свои рисунки - подражание модному тогда англичанину О. Бердсли - в изысканный журнал московских символистов "Весы". Рисунки понравились В.Я. Брюсову, и их напечатали. Печатал виньетки Кузьмина и чопорный петербургский "Аполлон".
Л.Н. Толстой в Севастополе. 1943 Из серии "Патриотические мотивы в русской классической литературе"
В 1911 г. Н.В.Кузьмин переехал в Петербург, где учился в школе Званцевой, в Политехническом институте, школе Общества поощрения художников у П.А. Шиллинговского, институте истории искусств. В 1922-24 гг. учился на графическом факультете Академии Художеств.
В конце 1920-х гг. в Москве сплотилась группа молодых художников, объединенных тягой к живому, быстрому, мгновенно откликающемуся на впечатления жизни рисованию, - группа "13". Кузьмин был одним из ее организаторов. "Рисовать без поправок, без ретуши. Чтоб в работе рисовальщика, как и в работе акробата, чувствовался темп!" - пояснял художник. С уличных зарисовок эта легкая манера была перенесена в книги.
А.С. Пушкин в Михайловском. 1943. Из серии "Патриотические мотивы в русской классической литературе"
В "Евгении Онегине" А.С. Пушкина (1933) Кузьмин сотнями беглых рисунков иллюстрировал не столько сюжет, сколько авторские отступления, на лету брошенные мысли поэта, его лирические состояния, заставляя и читателя совершенно по-новому воспринимать знакомый роман. Перовые рисунки к "Евгению Онегину" А.С. Пушкина (1928-1932, издание 1933; золотая медаль Международной выставки в Париже, 1937) - результат глубокого творческого проникновения в дух и характер пушкинских персонажей.
Кузьмин иллюстрирует русскую и западную классику ("Актриса" Э. де Гонкура, 1933; "Театр" А. де Мюссе, 1934, и др.) и книги современных авторов, особенно охотно книги о жизни писателей - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Его привлекают тексты иронические, пародийные: "Козьма Прутков" (1933), "Тартарен из Тараскона" А. Доде (1935).
"Певец во стане русских воинов". 1943. Из серии "Патриотические мотивы в русской классической литературе"
Живая свобода быстрой линии Кузьмина с годами несколько ослабела - может быть, не без влияния неумных редакторов и критики. Но он сохранил и в самых поздних работах свою ироничность, тонкую связь с духом и стилем текста, а не с одними лишь подробностями сюжета. Он с удовольствием брался за книги, невозможные для буквального иллюстрирования.
Мастерство свободного, изящного стилизованного рисунка (иногда подцвеченного акварелью), тонкое, остроумное истолкование стиля эпохи и эмоционального строя произведения, изобретательный юмор и острота сатиры - все это характерно для иллюстраций к "Левше" Н.С. Лескова (издания 1955, 1961), "Графу Нулину" А.С. Пушкина (издание 1959, бронз, медаль I ВА-59), "Запискам сумасшедшего" Н.В. Гоголя (издание 1960), "Плодам раздумья" (издание 1962) и "Азбуке" Козьмы Пруткова (издания 1966,1969), "Малолетнему Витушишникову" Ю. Н. Тынянова (издание 1966), "Кратким замысловатым повестям" Н.В. Курганова (издание 1976), "Эпиграммам" А.С. Пушкина (издание 1979).
Иллюстрация к роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". (Варианты). 1967
Теми же качествами, какими привлекают к себе рисунки Кузьмина, - наблюдательностью и юмором, легкостью и точностью пера - отличается и литературное наследие мастера, его мемуарные очерки и статьи о близких ему художниках, размышления об искусстве, литературе, об иллюстрациях. Как писатель, Кузьмин выступает с 1956 г. Им написана книга воспоминаний «Круг царя Соломона» (1964), книга «Штрих и слово» (1967) о взаимосвязи изобразительного искусства и литературы, рассказы «Наши с Федей ночные полеты» (1970). Воспоминания о Белом под названием «Иллюстрируя Андрея Белого».
Лучшие дня
| 34 года на поиски пропавшей девочки |
Николай Васильевич Кузьмин (7 (19) декабря , Сердобск , Пензенская губерния - 1 января , Москва) - советский график, иллюстратор произведений русской и зарубежной классической литературы, член-корреспондент Академии художеств СССР (1967).
Биография
Н. В. Кузьмин - автор книг «Круг царя Соломона» (1964), «Давно и недавно» (1982), «Художник и книга» (1985) и других . В архиве Н. В. Кузьмина, хранящемся в РГАЛИ , остались и неопубликованные рукописи.
Личная жизнь
- 1924-1940 первая жена - начинающая художница Мария Ивановна Кузьмина (Петрова)
- 1942 - вторая жена - художница Татьяна Маврина (1900-1996).
- Дети от первого брака: Иван Николаевич Кузьмин (1925-2012) - политолог, профессор, доктор политических наук. Михаил Николаевич Кузьмин (род. 1931) - член-корреспондент Российской академии образования.
Награды
- Большая серебряная медаль годовой выставки в Школе ОПХ (1914)
- С 1916 по 1917г четыре раза награждался орденами за храбрость – дважды «Анной» 4-й степени –с надписью «За храбрость», «Станиславом» и «Анной» 3-й степени оба с мечами и бантом.
- Золотая медаль Международной выставки в Париже (1937, за иллюстрации к «Евгению Онегину»).
- Член-корреспондент Академии художеств СССР (1967).
Память
Напишите отзыв о статье "Кузьмин, Николай Васильевич (художник)"
Примечания
Ссылки
- // Наше наследие. - 2011. - № 98.
|
||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Кузьмин, Николай Васильевич (художник)
Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison. [Право всегда на стороне больших армий.]Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.
Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.
В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что то такое, на какое то неизвестное х.
Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то – самое обыкновенное – в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.
А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный х.
Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.
Дух войска – есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.
Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного Х те условия, при которых проявляется сила, как то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.
Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4а:=15у. Следовательно, ж: г/==15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.
Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, – во всех народных войнах.
Французы, отступая в 1812 м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.
Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.
Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии – отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.
24 го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов.
Партизаны уничтожали Великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева – французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.
Какое великое счастье, что у России есть Пушкин!
Всю нашу жизнь он сияет над нами, как незаходящее солнце. Он входит в память каждого из нас с детства. Я вспоминаю, как в мае 1899 года в нашей школе справляли столетний юбилей поэта. Хор спел кантату, потом учитель прочитал по бумажке, какой великий поэт был Пушкин и почему мы должны его чтить. Любители из местного драматического кружка представили сцену в келье Пимена из "Бориса Годунова". Потом опять пел хор и читали стихи ребята. Я читал "Утопленника". Мне было восемь лет, я впервые выступал и очень волновался.
Сначала мы узнаем стихи Пушкина из учебников. Заучиваем их по-ребячьи, бездумно, тараторкой: "Гонимы вешними лучами..."
Но вот однажды я прочитал в однотомнике: "Надо мной в лазури ясной Светит звездочка одна..." и сразу увидел въявь этот закатный пейзаж, какой и сам не раз видел: и звездочку, и луну, и красный запад.
Я начал бродить по пушкинским проселкам и открывал для себя заново то романтическую Венецию, то древнюю буйную Русь, то пейзаж Испании, мрачный, как офорт Гойи из его графических серий "Капричос" и "Бедствия войны"...
Дерзновенная мысль проиллюстрировать "Евгения Онегина" зародилась у меня осенью 1928 года, когда я был на курсах переподготовки комсостава в Саратове. Там, в "военном городке", каждый вечер я уходил в библиотеку и читал "Евгения Онегина". Там-то я и прочитал впервые по-настоящему этот роман.
|
||||||
Все мы знаем "Евгения Онегина" со школьных лет, но это неполное, поверхностное знание. Я не раз обнаруживал, что даже интеллигентные люди путают либретто к опере Чайковского с творением Пушкина.
Преодолеть, иллюстрируя "Онегина", этот оперный штамп, освободить в сознании читателя роман Пушкина из-под наслоений оперных образов – было одной из задач иллюстратора.
На первой выставке "13-ти" в 1929 году я выставил несколько рисунков на пушкинские темы: "Кишиневские дамы", "Сводня", "Пушкин в Москве". Это открыло мне двери московских пушкинистов. Шумные вечера у М.Я.Цявловского стали для меня незабываемым семинаром по Пушкину. Пылкий Цявловский, пушкинист колоссальной эрудиции и трудолюбия, готовый промыть тонны породы ради золотой крупицы из биографии или творчества Пушкина, был несменяемым президентом на этих собраниях. Его тесная, забитая книгами квартира была в ту пору, в сущности, необъявленной "Пушкинской академией", где чуть ли не ежевечерне происходили интереснейшие "пушкинские бдения", где сталкивались мнения и кипели споры.
Тридцатые годы, предшествовавшие 1937-му юбилейному пушкинскому году, были отмечены особым подъемом в нашем пушкиноведении.
Нет нужды припоминать все названия вышедших тогда посвященных пушкинской теме книг, статей, рассказов, фильмов, картин, рисунков, – многие из этих трудов вошли в Золотой фонд нашей культуры. Я вспоминаю, как в издательстве "Недра" стали выходить выпуски труда В.В.Вересаева "Пушкин в жизни", несколько раз переиздававшегося в последующие годы. Каждый выпуск ожидался с нетерпением, как продолжение увлекательного романа. Идеи, говорят, носятся в воздухе, и в качестве заявки на ту же тему еще раньше появилась прелестная маленькая книжка известного литературоведа Н.Ашукина "Живой Пушкин".
Благодаря этим биографиям, в документах многие многие места "Онегина" открыли для меня свой автобиографический смысл, и казалось заманчивым попытаться расшифровать для себя и для читателя эти места графическими комментариями. Я, вопреки традиции, выбрал для иллюстрирования такие места, как "Нет презренней клеветы, на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной", или даже черновые варианты, драгоценные авторскими признаниями, как "Уже раздался звон обеден; среди разбросанных колод дремал усталый банкомет, а я, все так же бодр и бледен, надежды полн, закрыв глаза, гнул угол третьего туза". Меня увлекала новизна этого активного подхода к иллюстрированию, и я, может быть нарочно, объезжал стороной иные традиционные темы: Татьяна и няня, Татьяна за письмом, Онегин танцует с Ольгой, а Ленский ревнует...
Имел ли я на это право? Я полагал, что имел: лирические отступления занимают в романе не меньше трети строф и судьба героя то и дело перекрещивается с биографией самого поэта.
Как раз в те годы у В.В.Вересаева собирались почитатели Пушкина для "медленного чтения" строф "Евгения Онегина".
На этих вечерах бывали писатели, литературоведы-пушкинисты, актеры Художественного театра. Случалось, что за весь вечер прочитывали всего одну строчку. Каждое слово переворачивалось и так и эдак, комментировалось. вызывало множество литературных, биографических, исторических ассоциаций. При неожиданном повороте иное пушкинское слово и выражение приобретало вдруг особое сверкание. Это был богатейший по сведениям и идеям курс по Пушкину. Мне выпала честь на одном из таких вечеров показывать свои эскизы к "Онегину"; вероятно, нигде в другом месте я не мог бы найти столь авторитетной консультации по вопросам, связанным с Пушкиным.
Моим рисункам посчастливилось – издание "Онегина" было включено в план издательства "Academia".
Директор издательства был большой шутник. Он сказал мне: "Знаете, в Париже молодые художники сами оплачивают расходы по изданию своей первой книги. А мы вам еще платим!" Мне выписали аванс, но такой крошечный, что я проел его за месяц. Чтобы продолжать работу над "Онегиным", я стал таскать книжки из своей библиотеки в букинистическую лавку. Охотнее всего брали первые издания стихов Брюсова, Блока, Анненского, Ахматовой. Затем пришла очередь книг по искусству. Моя библиотека очень поредела.
Но вернемся к "Онегину". Редактором издания был Цявловский. Все рисунки мы обсуждали с ним совместно. Обнаружилось, что в тексте есть места, требующие комментария, особенно в том случае, если рисунок дает повод толковать это место превратно. Так, меня тронула строфа Пушкина, обращенная к будущему другу-читателю: "Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет..." Я нарисовал юношу и девушку, благоговейно взирающих на портрет Пушкина, и засомневался: а ну как не все поймут, что поэт совсем не обвиняет будущего читателя в невежестве. Каждый, вдумчиво прочитавший эту строфу и следующую, должен понять, что "невежда" не может иметь в этом контексте современного, уничижительного значения. Цявловский также подтвердил мне, что "невежда" в пушкинские времена означало "наивный, зеленый, не искушенный жизнью юнец". Тем более, что ранее Пушкин говорит и о Ленском: "Он сердцем милый был невежда". Мы порешили, что читатель разберется.
Увы, мы рассчитали плохо. Во втором номере журнала "Искусство" за 1937 год появились укоризненные строки о клевете на нашу славную молодежь, которая изображается художником в виде невежд. Критик не оправдал наших упований на умного читателя.
*
Из книги
: Кузьмин Н. В. Художник и книга. – М.: "Детская литература", 1985.
Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987) – российский график, художник-иллюстратор, участник и организатор художественного объединения "Тринадцать".
Николай Васильевич Кузьмин (7 (19) декабря 1890, Сердобск, Пензенская губерния - 1 января 1987, Москва) - советский график, иллюстратор произведений русской и зарубежной классической литературы, член-корреспондент Академии художеств СССР (1967).
Биография
В 1909 году самоучка из провинции послал свои рисунки в журнал московских символистов «Весы». Рисунки понравились В. Я. Брюсову и их напечатали.
В 1910 году, окончив реальное училище, Кузьмин поехал в Санкт-Петербург. По желанию родителей поступил в Политехнический институт, но это обучение показалось ему скучным. Много времени он проводил в библиотеке Академии художеств, а затем стал посещать классы Общества поощрения художеств и лекции Института истории искусств. Далее Кузьмин учился у И. Я. Билибина в Рисовальной школе при ОПХ (1912-1914), у П. А. Шиллинговского в петроградском Вхутеине (1922-1924).
В 1914-1922 годах Кузьмин принимал участие в Первой мировой войне и Гражданской войне в России, воевав в частях Красной Армии.
В конце 1920-х годов в Москве образовалась группа молодых художников - группа «13». Кузьмин стал одним из её организаторов. «Рисовать без поправок, без ретуши. Чтоб в работе рисовальщика, как и в работе акробата, чувствовался темп!» - пояснял свою позицию художник.
В зрелом возрасте Кузьмин иллюстрировал русскую и западную классику («Актриса» Э. де Гонкура, 1933; «Театр» А. де Мюссе, 1934, и др.) и книги современных авторов, особенно охотно книги о жизни писателей - А С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого. Член МОССХа с 1938 года.
В 1950-х годах его рисунки были посвящены рассказу Н. С. Лескова о тульском Левше, затем были «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя (1958), «Козьма Прутков» (1965), «Граф Нулин» (1957) и эпиграммы А. С. Пушкина (1979) и многое другое.
Личная жизнь
- 1924-1940 первая жена - начинающая художница Мария Ивановна Кузьмина (Петрова)
- 1942 - вторая жена - художница Татьяна Маврина (1900-1996).
- Дети от первого брака: Иван Николаевич Кузьмин (1925-2012) - политолог, профессор, доктор политических наук. Михаил Николаевич Кузьмин (род. 1931) - член-корреспондент Российской академии образования.
Награды
- Большая серебряная медаль годовой выставки в Школе ОПХ (1914)
- С 1916 по 1917г четыре раза награждался орденами за храбрость – дважды «Анной» 4-й степени –с надписью «За храбрость», «Станиславом» и «Анной» 3-й степени оба с мечами и бантом.
- Золотая медаль Международной выставки в Париже (1937, за иллюстрации к «Евгению Онегину»).
- Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).
- Член-корреспондент Академии художеств СССР (1967).
- Народный художник РСФСР (1972).
Память
- Особое место в собрании Картинной галереи имени К. А. Савицкого в Пензе занимают произведения художников, чья жизнь и творчество связаны с пензенским краем. Так, Н. В. Кузьмин представлен здесь иллюстрациями к произведениям Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Лескова и других классиков русской литературы.
- «Самый литературный из всех наших графиков» - сказал о нём Корней Чуковский.