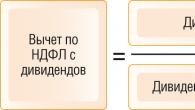А.И. Солженицын – выдающийся, всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии (1970). Его творческое наследие принадлежит к наиболее значимым ценностям русской литературы.
Писателя рассматривают как фигуру уникальную для своего времени. Его называют писателем-пророком, занявшим традиционную для классической русской литературы учительную позицию. А. Солженицын – крупнейший мыслитель, властитель дум интеллигенции последней четверти ХХ века.
Краткая биографическая справка
Родился 11 декабря 1918 г. в Кисловодске. Окончил физико-математический факультет университета в Ростове-на-Дону, заочно учился в Московском институте философии, истории и литературы. Участник Великой Отечественной войны (командовал артиллерийской батареей). Узник ГУДАГа (в 1945 г. в звании капитана был арестован после вскрытия его письма с негативной характеристикой Сталина и осужден на восемь лет лишения свободы, половину срока отбыл в тюремном научно-исследовательском институте в подмосковном Марфине, а два с половиной года провел на общих работах в Экибастузском политическом особлаге. Окончательное освобождение получил в 1957 г.). Учительствовал во Владимирской области и в Рязани. Первые литературные публикации А. Солженицына относятся к периоду «оттепели». Однако уже с 1967-го и по 1989-й годы созданные писателем произведения находятся под запретом в СССР и распространяются в самиздате. В 1969 г. был исключен из Союза советских писателей. В период «застоя» А. Солженицын – ключевая фигура сопротивления советской системе. В 1974 г. после выхода на Западе его «опыта художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ» был лишен советского гражданства и выслан из страны. Возвращение в Россию состоялось в 1994 г.
Основные вехи творческой биографии
Ранние произведения А. Солженицына – поэма «Дороженька» (1948 – 1953), пьесы «Пир победителей» (1951), «Республика труда» (1954) и некоторые др.
В 1959 – середине 1960-х годов работал над рассказами («Захар-Калита», «Как жаль», Для пользы дела» и др.), среди которых самыми известными являются «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». В 1958 – 1960 годах был создан цикл прозаических миниатюр «Крохотки». В доэмиграционный период крупными достижениями в области эпической формы стали роман «В круге первом» (писался с 1955 по 1968 г.) и повесть «В раковом корпусе» (писалась в 1963 – 1966 г.). С 1958 по 1967 гг. А. Солженицын работал над исследованием «Архипелаг ГУЛАГ», которое является его главным литературно-диссидентским подвигом.
В период двадцатилетнего изгнания писатель продолжил работу над начатой еще в СССР мемуарно-дневниковой книгой «Бодался теленок с дубом» (1967 – 1992), а также над «Русским словарем языкового расширения» (1947 – 1988). В этот период подготовил тома автобиографических «очерков изгнания» «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (1978 – 1994), ряд публицистических выступлений, исторических и литературных исследований. В эмиграции писателем был создан грандиозный труд – эпопея «Красное колесо», самое большое произведение во всей русской литературе (10-томная тетралогия).
В 1990-е годы А. Солженицын вернулся к малой эпической форме, подготовил публицистическую книгу «Россия в обвале» (1997 – 1998). Им написан цикл «Двучастных рассказов» («Эго», «На краях», «Молодняк», «Настенька», «Желябугские выселки», «Абрикосовое варенье», «На изломах», «Все равно» (1994-1998) и миниатюр («Крохоток») (1996 – 1999), а также небольшая по объему «односуточная повесть» «Адлиг Швенкиттен» (1998).
Значительная часть литературного наследия А. Солженицына в России стала доступной широкому читательскому кругу только с периода перестройки и относится к «возвращенной» литературе.
Некоторые аспекты значения литературно-общественной деятельности А. Солженицына
Создал собственную концепцию истории России ХХ века и воплотил ее в своем творчестве:
В творчестве Солженицына создана целая характерология русской жизни первой половины ХХ века, предметом исследования стал русский национальный характер в его разных личностно-индивидуальных проявлениях, охватывающих практически все слои русского общества в переломные моменты его бытия;
Писатель проследил изменения русской ментальности под воздействием исторических обстоятельств, как они сложились в ХХ веке, показал процесс деформации национального характера;
Солженицын – один из самых значимых представителей так называемо «лагерно» прозы, им внесен большой вклад в разработку темы ГУЛАГа;
На материале публицистических статей и художественных произведений глубоко раскрыл природу тоталитаризма, исчерпанность идеологических основ коммунистического строя, показал истоки революции;
Разработал оригинальную жанровую модификацию «двучастного» рассказа, а также проявил себя как новатор и в сфере других родо-жанровых форм;
Дал глубокий и содержательный анализ духовного состояния современного мира, показав опасность прогрессирования тенденций, ведущих к гибели нравственных начал, к вырождению культуры;
Творческое наследие Солженицына содержит мощный идейно-нравственный потенциал, в нем сильно выражено патриотическое начало.
Основные особенности творческого наследия А. Солженицына
Произведения его в большой мере автобиографичны, но прототипы писатель мастерски претворил в художественные образы;
Творческое наследие А. Солженицына богато и разнообразно в жанровом отношении (роман, повести, рассказы, «крохотки», публицистика, автобиографическая проза, пьесы и др.); писателю подвластна как большая, так и малая форма;
Произведения содержат резкую критику тоталитарной советской системы, коммунистического режима, в них глубоко раскрыта природа советского тоталитаризма;
В творчестве А. Солженицына ярко выражено нравственно-религиозное, начало, христианский взгляд на мир и человека, оно в основе своей религиозно. Писатель во многом негативно, пессимистически настроен по отношению к современной западной цивилизации и будущему человечества; писатель выступает против «свободы.зла», призывает к самоограничению:
Солженицын – писатель-проповедник, ему близок взгляд на писателя как на учителя жизни, А. Солженицын предупреждал еще десятилетия назад: «Если же художник воображает богом самого себя, если искусство совершается как свободная забава художника, или даже выход его раздражению и ненависти, – такое искусство, на Востоке или Западе, опасно для его потребителей…» («Выступление в Итоноском колледже, 1983);
Писатель считает себя традиционалистом в литературе: « да, я думаю, что красота и добро связаны органически, а зло использует красоту лишь для маскировки, иногда ловко. И это бывает в искусстве. Зло является в красивом виде. Но это всегда маскировка. На самом деле зло с красотой не имеет родства» (с. 209) («Интервью с Даниэлем Рондо для Парижской газеты «Либерасьон», 1983). У него возвышенное понимание о роли писателя, о его ответственности за духовную жизнь народа. А. Солженицын убежден, что писатель призван «служить общественному выздоровлению».
Краткая характеристика избранных произведений А. Солженицына
различной жанровой принадлежности
«Один день Ивана Денисовича»
Замысел описать в мельчайших подробностях один день из жизни заключенного возник у писателя в 1950 г., когда он отбывал лагерной срок. Но только в 1959 г. А. Солженицын смог осуществить этот замысел. По свидетельству самого автора, рассказ был написан за сорок дней. Первоначальное заглавие «Щ-854. Один день одного зэка» было изменено, в связи с рекомендацией А.Т. Твардовского. Главный герой – образ собирательный. Повесть была опубликована в 1962 г. в журнале «Новый мир». Как заметил А. Солженицын, «если бы не было Твардовского как главного редактора журнала», «повесть эта не была бы напечатана» (с. 25).
Повесть оказала огромное влияние на общественное сознание целого поколения советских людей. Прочитав повесть еще до ее публикации, в машинописи, А. Ахматова, описавшая в «Реквиеме» горе «стомильонного народа» по сю сторону тюремных затворов, сказала (в передаче Л. Чуковской): «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть – каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».
Главная тема повести – судьба России. Главный герой – русский крестьянин, носитель лучших черт и нравственных начал русской нации. Повесть – квинтэссенция «лагерной» темы, в ней правдиво и с редкой художественной выразительностью показана лагерная жизнь. Солженицын – мастер создания интересных и психологически убедительных образов.
«Матренин двор»
Написан в 1959 г. в Рязани, опубликован впервые в журнале «Новый мир» в 1963 г. Первоначальное авторское название – «Не стоит село без праведника»; окончательное придумано А.Т. Твардовским. По требованию редакции журнала «Новый мир», время действия было перенесено из 1956 в 1953.
Рассказ построен на автобиографическом материале. Писатель в описываемое время снимал угол в доме Матрены Васильевны Захаровой (в рассказе Григорьевой) в деревне Мальцево (в рассказе – Тальново) Владимирской области. Он точно воссоздал подробности жизни и смерти своей героини. Благодаря многообразному и объективному отражению жизни деревни рассказ стал одним из истоков «деревенской прозы».
В центре проблематики – мотивы неузнанного и непонятого праведника, а также нравственного разложения и умирания деревни.
Рассказ окрашен в мистические тона. Так, после гибели героини-праведницы ее тело превращается в кровавое месиво, однако лицо ее «больше живое, чем мертвое» и чудом уцелевшая правая рука свидетельствуют об особой отмеченности Матрены Богом.
«Архипелаг ГУЛАГ »
«Опыт художественного исследования», созданный с 1958 по 1967 в сугубо конспиративной обстановке, поскольку автор поставил перед собой опасную по тем временам задачу – провести исследование советской репрессивно-карательной системы 1918 – 1956 гг. А. Солженицын собрал обширный исторический материал, использовав, в частности, показания 227 свидетелей, бывших узников советских концлагерей. В СССР впервые опубликован в 1989 г. Автор посвятил произведение всем жертвам коммунистического тоталитаризма. С точки зрения жанрового своеобразия несет в себе черты новаторства, представляя новый тип произведения, пограничный между художественно-документальной и научно-популярной литературой, а также публицистикой. В нем выражена сквозная для всего творчества Солженицына идея победы над злом через жертву, через неучастие во лжи. Эта идея является центральной, например, в публицистической статье «Жить не по лжи!», в которой автор в открытой публицистической форме призывает современников жить по совести, по правде.
«В круге первом» (1955 – 1968)
В романе изображена жизнь ученых-лагерников в закрытом исследовательском институте («шарашке») – с более щадящим режимом и с возможностью общения с умными, интересными коллегами. Один из главных героев – интеллигент Нержин в беседах с другими заключенными долго и мучительно выясняет: кто же в подневольном обществе в меньшей степени живет по лжи? Носителем правды и нравственности выступает в романе крестьянин Спиридон, народный тип, близкий Ивану Денисовичу Шухову. Перед читателем предстает лишь «первый круг» полутюремного «ада», в котором еще нет настоящих мучений, зато есть простор для «мысли». В этом смысле «первый круг» оказывается плодотворным для Глеба Нержина, который возвращается к христианской православной вере, открывает для себя черты «народа-богоносца» в мужике Спиридоне.
«Красное колесо»
Историческое повествование «о том, как произошла революция в России». Эпопея состоит из Узлов, Узлы – это книги отдельные, посвященные короткому важному времени, где завязан узел, где решается история. Сам автор считает это произведение главным трудом своей жизни.
К малой солженицынской прозе примыкает и самая малая – три десятка «Крохоток». После Тургенева естественно назвать их «стихотворениями в прозе». Это миниатюры, свободные прозаические этюды-раздумья.
Цикл Крохоток 1996 – 1999 годов завершается Молитвой.
Отче наш Всемилостивый!
Россиюшку Твою многострадную
Не покинь в ошеломлении нынешнем,
В ее израненности, обнищании
И в смутности духа.
Господи Вседержитель!
Не дай ей, не дай пресечься:
Не стать больше быть.
Сколько прямодушных сердец
И сколько талантов
Ты поселил в русских людях.
Не дай им загинуть, погрузиться во тьму, –
Не послуживши во имя Твое!
Из глубин Беды –
Вызволи народ свой неукладный.
Писатель открыто говорит о том, что служит России, и что все им сделанное поможет русской истории. На вопрос «Какое ваше самое большое желание?» в одном из интервью 2003 года, А. Солженицын ответил: «Чтобы русский народ, несмотря на все многомиллионные потери в ХХ веке, несмотря на нынешний катастрофический упадок – материальный, физический, демографический, у многих и моральный – не пал бы духом, не пресекся в существовании на земле – но сумел бы воспрять.. Чтобы в мире сохранились русский язык и культура. (И сохранилась бы в том и моя скромная доля.).
Публицистика А. Солженицына
Публицистика А. Солженицына занимает значительное место в его творческом наследии и состоит из писем, статей, речей, воззваний, выступлений, докладов, интервью и др. Тематический диапазон ее широк: духовное состояние современного мира, судьба нравственных ценностей, роль и место религии в нем, проблемы в сфере политики, образования, история России, ее связь с современностью, судьба русской нации, место и роль писателя, назначение искусства слова, русская интеллигенция и др. В соответствии с хронологическим критерием разножанровые публицистические произведения можно разделить на три периода: доэмиграционный (1967 – 1974), эмиграционный (1974 – 1994), послеэмиграционный (с 1994).
К публицистике относится и Нобелевская лекция. (1972). По статуту нобелевских премий выражается пожелание, чтобы в один из дней, ближайших к церемонии, лауреат прочел лекцию по своему предмету. Жанр и состав лекций – не определен. Текст лекции А. Солженицына был тайно переслан в Швецию и там напечатан в 1972 году в официальном сборнике Нобелевского комитета. Одновременно лекция разошлась в СССР в Самиздате. Предмет публицистических размышлений автора-лауреата – искусство, его природа, его незаменимая, особая роль в человеческом бытии. Заканчивает он свою лекцию изложением того главного принципа, на котором основано его литературно-общественная деятельность и который он считает важнейшим для современного писателя: жить не по лжи: «В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:
ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.
Вот на таком мнимо-фантастическои нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мир» .
«ОБРАЗОВАНЩИНА» (02. 1974)
Статья писалась для сборника «Из-под глыб», основана на опыте общения с интеллигенцией разных советских десятилетий – от старой технической в 20-х годах до разных слоев провинциальной и столичной в 60 – 70-х. Закончена в феврале 1974, перед самым арестом и высылкой автора из Советского Союза, – последнее, что написано им на родине.
Статья представляет собой критический анализ русской интеллигенции советского периода.
Названия некоторых публицистических произведений:
«Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», «Письмо к вождям Советского союза», «Темлтоновская лекция», «Как нам обустроить Россию», «Игра на струнах пустоты», «К нынешнему состоянию России», «Лицемерие на исходе ХХ века», «Исчерпание культуры», «Перерождение гуманизма».
РЕКОНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Голубков М.М. Александр Солженицын. М., 1999.
Нива Жорж. Солженицын. М., 1992.
Гордиенко Т.В. Особенности языка и стиля рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор» // Русская словесность, 1997, № 3.
Паламарчук П. Александр Солженицын: Путеводитель. М., 1991.
Если окинуть одним взглядом все, что написано об Александре Исаевиче Солженицыне, можно заметить нечто, объединяющее почти все статьи, хвалебные и критические, апологетические и разоблачительные. Во все времена от Солженицына чего-то ждут. Поклонники ждут, что его слово сможет реально на что-либо повлиять, недоброжелатели с не меньшим нетерпением ожидают, когда же он даст им повод порассуждать о несвоевременности его мыслей, а то и просто поерничать и потренировать свое остроумие.
Но и те, и другие хотят, чтобы он высказался по тому или иному поводу, с опаской или восторгом ждут его слов.
После долгих согласований и сложных закулисных маневров вышедший в свет по высочайшему благословению "Один день Ивана Денисовича" мог бы так и остаться замечательным образцом "лагерной" прозы. Одобрение партийного руководства могло бы сослужить Солженицыну плохую службу, сделать его, в конце концов "разрешенным", а стало быть, по законам того времени, неинтересным рядовым членом Союза писателей. Но судьбе, как принято говорить в таких случаях, было угодно распорядиться по-другому.
Вообще слово "судьба" применительно к Солженицыну наполняется особенным смыслом. Известное его утверждение, что после чудесного избавления от раковой опухоли он почувствовал себя "избранным", вызывало многочисленные кривые усмешки и ироничные замечания. Но сейчас можно уже констатировать тот простой факт, что Александр Исаевич, если и не был изначально "призван", то, благодаря твердой вере в свое особое предназначение, сыграл немаловажную роль в истории России XX века. Положительную или отрицательную - сейчас понять невозможно - лицом к лицу лица не увидать, да и не терпит история однозначности" Очевидно одно, старый анекдот, что в энциклопедии XXI века о Брежневе будет написано, что это мелкий политический деятель эпохи Солженицына, не так уж и фантастичен, как это могло показаться лет пятнадцать назад.
Но это все ретроспектива, а тогда все было иначе. Солженицын был в мгновение ока введен в круг писателей, пользовавшихся особым расположением руководства страны. Случай сам по себе небывалый - автор единственной опубликованной повести был не просто принимаем в Кремле вместе с авторами многотомных собраний сочинений, но и особо отмечен в речи главы государства. Но Солженицын смог избежать соблазна встать в стройные ряды советских писателей. Что стало причиной тому, ощущение ли собственного высокого предназначения, как утверждает он сам, или желание получить "дивиденты" с международной скандальной известности, как уверяют его недоброжелатели, понять трудно, да и нужно ли - история не терпит сослагательного наклонения, случилось то, что случилось.
Скорее всего, не поддаться соблазну стать "одним из"" ему помогла вынесенная из лагерей уверенность, что эти честно играть просто не умеют, что причина его стремительного взлета - минутное совпадение поднятой им темы с их политическими играми.
Солженицын начал вести с властями сложную игру. Довольно полное представление о ее характере можно составить из сопоставления двух книг: мемуаров "Бодался теленок с дубом" Солженицына и выпущенного несколько лет назад сборника документов "Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне". Если первая из них всем хорошо известна и вызвала в свое время большую полемику, то вторая прошла почти незаметно. Читая ее, поражаешься, как хваленая советская идеологическая машина спасовала перед рязанским учителем математики и бывшим зэком. Коварства, как и описывал Солженицын в своей книге, было советской власти не занимать, опыта слежки органам госбезопасности тоже. Не было только одного - решимости воплотить замыслы и результаты оперативной работы в реальные репрессивные меры против писателя.
Оперативная информация о, мягко говоря, не совсем лояльных высказываниях Солженицына появилась вскоре после опубликования "Одного дня Ивана Денисовича", и поток ее год от года только увеличивался. Вся она аккуратно переправлялась в высшие органы власти, но там не было единства мнений о том, как надо реагировать на его демарши.
Единственным разумным объяснением такой медлительности в принятии решений может быть только то, что Солженицын попал в своеобразный "пересменок", когда карательные методы разрешения подобных конфликтов уже не всегда можно было применять (особенно по отношению к человеку, которого сами же и возвысили), а приемы чисто идеологической "ненасильственной" борьбы еще не были отработаны.
Да и применять особенно жесткие санкции было не с руки - никто не заставлял публиковать его произведения в "Правде", а признать, что на страницы центрального органа партии и в один из самых престижных журналов проник враг, было невозможно. Ему всячески предлагали поиграть в зашалившегося любимого ребенка, аккуратно подталкивали к некоей мягкой формуле раскаяния, но он не пошел и на это. Быть может, руководствовался он заветом старого зэка, сказавшего Ивану Денисовичу: "На зоне загибаются те, кто тарелки лижет, кто на санчасть надеется и кто к куму ходит стучать", а может, был просто упрям, верил в свою способность в одиночку разрушить империю и хотел посмотреть (из детского любопытства) на крушение.
Как бы то ни было, общими усилиями (своими и партийного руководства страны) Солженицын был возведен в ранг пророка в своем отечестве и, как и требует того сия крылатая фраза, был побиваем камнями и изгнан за его пределы. Такой метод решения конфликтов позволял, с одной стороны, избавиться от надоедливого оппонента, а с другой - избежать обвинений в антигуманности.
Большинство из тех, к кому применялась эта мера (или кому иным путем удавалось остаться на Западе) совершали одну и ту же оплошность - начинали во все тяжкие громить советскую власть, обличать и обвинять ее во всех смертных грехах. Покричав таким образом полгода, они быстро выходили в тираж и переставали быть интересны.
Солженицын смог избежать и этой участи. Издав "Архипелаг ГУЛАГ", он не только не поддался соблазну растратить силы в рассуждениях о подлости и жестокости советской власти, но и подверг довольно резкой критике и западное общество тоже. Тому досталось за бездуховность и опять же лживость (иную чем советская, но лживость). Слова "Интернационала" "весь мир насилья мы разрушим"" Солженицын склонен был трактовать в самом широком смысле.
Позиция всем и вся недовольного критикана мало приятна при любом строе, и быть бы Александру Исаевичу причисленным ко всем недолюбливаемым сутягам, но и тут он сделал ход, который помог ему избежать этой незавидной участи. Он стал "вермонтским затворником", про которого было известно лишь то, что он трудится над огромным историософским произведением. Этот период жизни Солженицына отражен в романе Владимира Войновича "Москва 2042". В романе Солженицын фигурирует под именем Сим Симыча Карнавалова, что само по себе говорит об отношение автора к своему персонажу. Но как бы ни иронизировал автор романа по поводу обрядов, ритуалов и условностей, которыми окружает себя Сим Симыч, все, включая героя романа (в котором без труда угадывается сам Войнович), просят у него аудиенции, принимают его правила игры.
Затворническая жизнь позволила Солженицыну не только закончить работу над "Узлами", но и сохранить интерес к себе. Вера всегда позволяла человеку вершить чудеса, и зэк, прошедший круги ада, чудом выбравшийся из ракового корпуса, а потом почувствовавший себя призванным бороться с целой империей, удостоился лицезреть ее крушение. Стало ли это крушение началом долгожданного возрождения России или нет - вопрос другой, "нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".
Возвращение Солженицына на Родину проходило в несколько этапов. Сначала были долгие переговоры о начале публикации его произведений. Солженицын настаивал на публикации "Архипелага", советские чиновники были готовы согласиться на все, кроме этого. Они, как и сам автор, верили в волшебную силу слова. Но вот книга была опубликована, и выяснилось, что у метода "замалчивания" есть достойный конкурент - "потопление" в информационном шквале. Известно, что многие люди, читавшие "Архипелаг" в условиях советского информационного вакуума, говорили, что она производила ошеломляющее впечатление. Массовый советский читатель, прочтя ее в потоке публиковавшейся тогда "чернухи", не смог оценить всей ее революционности. А те, кто привык в советское время читать между строк, уже знали обо всем - из небольшого рассказа об одном дне зэка Ивана Денисовича. Не оказала должного воздействия на умы и его работа "Как нам обустроить Россию", изданная тиражом 27 миллионов экземпляров. В стране Советов недостатка в советчиках никогда не было.
Эффект "физического" возвращения Солженицына в Россию тоже был сильно смазан, но на этот раз уже во многом по вине самого писателя. Все было продуманно до мелочей: Солженицын вернулся через Дальний Восток. Таким образом, по мнению некоторых журналистов, он, во-первых, возвращался не через ту границу, через которую его выслали, во-вторых - смог без заезда в столицу посетить российскую глубинку, на которую возлагает все свои надежды по возрождению России. Некоторые особенно насмешливые журналисты заподозрили Александра Исаевича в желании "смоделировать" то ли сюжет вхождения в Иерусалим, то ли просто движение солнца.
Все было бы хорошо, не случись в октябре 1993 г. Солженицыну дать интервью "Русской мысли", в котором он поддержал расстрел российского парламента. После этого власти с нетерпением ждали его возвращения, рассчитывая обрести весьма авторитетного сторонника. Но многие, кто ждал его как человека способного выступить с обличением новой, не менее чудовищной лжи, были жестоко разочарованы. Приехав, Солженицын поспешил исправить свою оплошность, но, пользуясь столь любимыми писателем русскими пословицами, слово не воробей"
В России Солженицын сразу отказал какой-либо политической партии в поддержке. Он попал в достаточно сложную ситуацию: патриотические лозунги выдвигаются коммунистами, с которыми он не может сотрудничать ни при каких обстоятельствах, а их оппонентов - демократов - трудно заподозрить в чрезмерной любви к Родине. Сейчас Солженицын все чаще критикует существующий строй.
В интервью журналу "Монд" в ноябре 1996 года Солженицын сказал: "Созданная так система центральной власти - настолько же бесконтрольна, безответственна перед общественностью и безнаказанна, какой была и коммунистическая власть, и даже при самом большом желании не может быть названа демократией. Все важные мотивы, решения, намерения и действия власти, а также персональные перемещения совершаются для масс в полной темноте, а прорезаются в свет уже готовые результаты; при персональных перестановках - невыразительные формулировки: "согласно поданному рапорту", "в связи с переходом на другую работу" (часто не указываемую) - и никогда, даже при явной вине этого лица, никакого гласного объяснения. Спустя некоторое время это же лицо, так же вкрадчиво, может получить даже и более ответственный пост. Моральный императив власти: "своих не выдаем и вины их не открываем". Так из ловких представителей все тех же бывших верхнего и среднего эшелонов коммунистической власти и из молниеносно обогатившихся мошенническими путями скоробогатов создалась устойчивая и замкнутая олигархия из 150-200 человек, управляющая судьбами страны. Таково точное название нынешнего российского государственного строя. Это - не выросшее из корней государственное дерево, а насильственно воткнутая сухая палка или, теперь уже, железный стержень. Членов этой олигархии объединяет жажда власти и корыстные расчеты - никаких высоких целей служения Отечеству и народу они не проявляют".
Слово Солженицына еще весомо, его хвалу немедленно поднимают на знамена, но его "метания" в начале 90-х позволяют теперь ерничать в ответ на его хулу, дескать "и тогда вам не так было, и теперь не этак - на вас не угодишь". Но все-таки Солженицын занимает особое положение среди российских политических деятелей, ему одному, похоже, позволено говорить о русской национальной идее без боязни быть заподозренным во всех смертных грехах.
Многие из тех, кто сейчас ждет его слов, для хулы или для похвалы - все равно, забывают, что перед ними, прежде всего, очень пожилой человек, который много чего повидал на своем веку и которого можно просто поздравить с недавним юбилеем и просто оставить в покое. Лучшее украшение старости - мудрое молчание.
Сегодняшний Солженицын уже не тот "демонический пророк", поражавший и друзей, и недругов. С высоты своего избранничества. Похоже, он осознал (или чувствует), что и он причастен к нынешнему положению его Отечества. Его последняя книга "Россия в обвале" - это собрание горьких мыслей и запоздалых выводов ("Русский этнос демонстративно не взят в основу России", "Новая Россия не поставила себя как Родину", "Уже бесповоротно ясно, что эта власть не изберет национальной идеей - Сбережение Народа" и т.д. и т.п.). Но дело не в справедливости этих мыслей, а в том, что они - "цветы запоздалые". И в народном сознании фигура Александра Исаевича скорее всего останется фигурой разрушителя, о чем не устает говорить другой бывший советский диссидент - Александр Зиновьев.
Примечательно, что рост известности Солженицына совпал с началом профессиональной партийной работы Бориса Ельцина. Оба эти человека в разное время были и строителями, и разрушителями. Теперь их поколение уходит со сцены, нужно двигаться дальше.
Художественная значимость произведений А.И.Солженицына, понимание масштаба и смысла сказанного нам этим ярким мыслителем и художником диктует сегодня необходимость найти новые подходы к изучению творчества писателя в школе.
Тексты А.И.Солженицына по праву можно отнести к категории прецедентных, то есть оказывающих весьма сильное влияние на формирование языковой личности, причем как индивидуальной, так и коллективной. Термин «прецедентный текст» был введен в науку о языке Ю.Н.Карауловым. Прецедентными он называл тексты:
1) «значимые для… личности в познавательном и эмоциональном отношениях»;
2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников»;
3) тексты, «обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» .
Появление в 1962 году «рукописи некоего беллетриста о сталинских лагерях» - повести А.Рязанского (псевдоним А.Солженицына) «Щ-854», позже названной «Один день Ивана Денисовича», - вызвало неоднозначные суждения литераторов. Один из первых восторженных откликов на повесть появляется в личном дневнике К.И.Чуковского 13 апреля 1962 года: «…Чудесное изображение лагерной жизни при Сталине. Я пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи…». Этот краткий отзыв назывался «Литературное чудо» и представлял собой первую рецензию на повесть «Один день Ивана Денисовича»: «…с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель». Слова Чуковского буквально совпадают с тем, что позже напишет А.Т.Твардовский в своем предисловии к первой публикации «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» (1962, № 11). В предисловии Твардовского сказано следующее: «…оно /произведение - Т.И., О.Б./ означает приход в нашу литературу нового, своеобычного и вполне зрелого мастера». Как известно, в повести, показан один день из жизни главного героя, предельно сконцентрировано время и пространство, и этот день становится символом целой эпохи в истории России .
Стилистическая оригинальность повести, отмеченная в первых рецензиях, выражается, прежде всего, в авторском умелом использовании диалектной речи. Все повествование строится на прямой речи главного героя, прерываемой диалогами действующих лиц и описательными эпизодами. Главный герой - человек из деревни довоенного времени, его происхождение обуславливает специфику речевого выражения: язык Ивана Денисовича богато насыщен диалектизмами, причем многие слова являются не столько диалектизмами, сколько просторечными словами («кесь», в значении «как»; прилагательное «гунявый», то есть «грязный» и др.).
Лексические диалектизмы в речи героя, несмотря на их обособленность от структуры лагерной речи, тем не менее, устойчивы и ярко передают семантику обозначаемого предмета или явления и придают эмоционально-экспрессивную окраску речи. Это свойство лексических диалектизмов особенно ярко выявляется на фоне общеупотребительной лексики. Например: «однова» -(«однажды»); «напересек» - («наперерез»); «прозор» - («хорошо просматриваемое место»); «засть» - («закрывать»).
Обращает на себя внимание тот факт, что арготизмы практически исключены из словарного запаса героя, как и из основного повествования. Исключение составляют отдельные лексемы («зэк», «кондей» (карцер). Иван Денисович практически не употребляет жаргонных слов: он часть той среды, где находится - основной контингент лагеря не уголовники, а политические заключенные, интеллигенция, не владеющая арго и не стремящаяся к его овладению. В несобственно-прямой речи персонажа жаргонизмы употребляются минимально - использовано не более 40 «лагерных» понятий.
Стилистическую художественно-выразительную окраску повести придает и использование слово- и формообразовательных морфем в несвойственной им словообразовательной практике: «угрелся» - глагол, образованный префиксом «у» имеет литературный, общеупотребительный синоним «согрелся», образованный префиксом «со»; «наскорях» образованно по правилам словообразования «вверхах»; отглагольные образования «окунумши, зашедши» передают один из способов образования деепричастий - мши-, - дши- сохранившиеся в диалектной речи. Подобных образований в речи героя множество: «разморчивая» - от глагола «разморить»; «красиль» - «красильщик»; «смогают» - «смогут»; «горетый» - «горелый»; «сыздетства» - «с детства»; «трогъте» - «трогайте» и др.
Таким образом, Солженицын, используя в повести диалектизмы, создает неповторимый идиолект - индивидуализированную, самобытную речевую систему, коммуникативной особенностью которой является фактически полное отсутствие арготизмов в речи главного героя. Кроме этого, Солженицын довольно скупо использует в рассказе переносные значения слов, предпочитая первоначальную образность и добиваясь максимального эффекта «нагой» речи. Дополнительную экспрессию придают тексту нестандартно использованные фразеологизмы, пословицы и поговорки в речи героя. Он способен чрезвычайно сжато и метко двумя-тремя словами определить суть события или человеческого характера. Особенно афористично звучит речь героя в концовках эпизодов или описательных фрагментов.
Художественная, экспериментальная сторона повести А.И.Солженицына очевидна: оригинальная стилистика повести становится источником эстетического наслаждения для читателя.
О своеобразии «малой формы» в творчестве А.И.Солженицына писали разные исследователи. Ю.Орлицкий рассматривал опыт Солженицына в контексте «Стихотворений в прозе» .С.Одинцова соотносила «Крохотки» Солженицына с «Квази» В.Маканина. В.Кузьмин отмечал, что «в «Крохотках» концентрация смысла и синаксиса является главным средством борьбы с описательностью» .
Собственные представления Солженицына о стилистической наполненности «малой формы» заключаются в полном, принципиальном неприятии «приемов»: «Никакой литературщины, никаких приемов!»; «Никакие «новые приемы»…не нужны, …вся конструкция рассказа - нараспашку», - одобрительно писал Солженицын об отсутствии формальных экспериментов в прозе П.Романова, Е.Носова.
Главным достоинством рассказов Солженицын считал сжатость, изобразительную емкость, сгущенность каждой единицы текста. Приведем несколько оценок такого рода. О П. Романове: «Ничего лишнего и нигде не продрогнет сентимент» . О Е.Носове: «Краткость, неназойливость, непринужденность показа» . О Замятине «И какая поучительная сжатость! Сжаты многие фразы, нигде лишнего глагола, но сжат и весь сюжет…Как все сгущено! - безвыходность жизни, расплющенность прошлого и сами чувства и фразы - все тут сжато, сжато» . В «Телеинтервью на литературные темы» с Никитой Струве (1976) А.И.Солженицын, говоря о стиле Е.Замятина, заметил: «Замятин во многих отношениях поражает. Главным образом вот синтаксисом. Если я кого считаю своим предшественником, то - Замятина» .
Рассуждения писателя о стиле литераторов показывают, насколько важен для него и синтаксис, и конструкция фразы. Профессиональный анализ мастерства писателей-новеллистов помогает понять стилистику самого Солженицына как художника. Попытаемся сделать это на материале «Крохоток», жанра особого, интересного не только подчеркнуто малым размером, но и сгущенной образностью.
Первый цикл «Крохоток» (1958 - 1960) состоит из 17 миниатюр, второй (1996 -1997) из 9. Сложно выявить какую-то закономерность в отборе тем, но сгруппировать миниатюры по мотивам все-таки можно: отношение к жизни, жажда жизни («Дыхание», «Утенок», «Вязовое бревно», «Шарик»); мир природы («Отражение в воде», «Гроза в горах»); противостояние человеческого и официозного миров («Озеро Сегден», «Прах поэта», «Город на Неве», «Путешествуя вдоль Оки»); новое, чуждое мироотношение («Способ движения», «Приступая ко дню», «Мы-то не умрем»); личные впечатления, связанные с потрясениями красотой, талантом, воспоминаниями («Город на Неве», «На родине Есенина», «Старое ведро»).
В рассказах «Крохотки» активизируются разговорные синтаксические конструкции. Автор часто «сворачивает», «сжимает» синтаксические конструкции, умело используя эллиптичность разговорной речи, когда опускается все, что может быть опущено без ущерба для смысла, для понимания сказанного. Писатель создает предложения, в которых не замещены те или иные синтаксические позиции (т.е. отсутствуют те или иные члены предложения) по условиям контекста. Эллипсис предполагает структурную неполноту конструкции, незамещенность синтаксической позиции: «В избе Есениных - убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну…За пряслами - обыкновенное польце» («На родине Есенина»); «Не весит нисколько, глазки черные - как бусинки, ножки - воробьиные, чуть-чуть его сжать - и нет. А между тем - тепленький» («Утенок»); «В той церкви подрагивают станки. Эта - просто на замке, безмолвная» («Путешествуя вдоль Оки») и мн.др.
Синтаксические построения в «Крохотках» становятся все более расчлененными, фрагментарными; формальные синтаксические связи - ослабленными, свободными, а это в свою очередь повышает роль контекста, внутри отдельных синтаксических единиц - роль порядка слов, акцентных выделений; повышение роли имплицитных выразителей связи приводит к словесной сжатости синтаксических единиц и, как следствие, к их смысловой емкости. Общий ритмико-мелодический облик характеризуется экспрессивностью, выраженной в частом использовании однородных членов предложения, парцеллированных конструкций: «И - чародейство исчезло. Сразу - нет той дивной бесколышности, нет того озерка» (Утро»); «Озеро пустынное. Милое озеро. Родина…» («Озеро Сегден»). Отрыв от основного предложения, прерывистый характер связи в парцеллированных конструкциях, функция дополнительного высказывания, дающая возможность уточнить, пояснить, распространить, семантически развить основное сообщение, - вот проявления, усиливающие логические и смысловые акценты, динамизм, стилистическую напряженность в «Крохотках».
Встречается и такой тип расчлененности, когда фрагментальность в подаче сообщений превращается в своеобразный литературный прием - расчленению подвергаются однородные синтаксические единицы, предваряющие основное суждение. Это могут быть придаточные или даже обособленные обороты: «Лишь когда через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводи остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, - лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба» («Отраженье в воде»); «Он ёмок, прочен и дешев, этот бабий рюкзак, с ним не сравняются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня навычное крестьянское плечо» («Колхозный рюкзак»).
Частым стилистическим приемом писателя становится и сегментированность речевых конструкций, например, при использовании вопросных, вопросно-ответных форм: «И в чем тут держится душа? Не весит нисколько…» («Утенок»); «…все это тоже забудется начисто? Все это тоже даст такую законченную вечную красоту?..» («Город на Неве»); «Сколько видим ее - хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет…» («Лиственница»). Такой прием усиливает имитацию общения с читателем, доверительность интонации, словно «размышления на ходу».
Экономность, смысловая емкость и стилистическая выразительность синтаксических конструкций поддерживается и графическим элементом - использованием тире - излюбленного знака в повествовательной системе Солженицына. Широта употребления этого знака свидетельствует о его универсализации в писательском восприятии. Тире у Солженицына имеет несколько функций:
1. Означает всевозможные пропуски - пропуск связки в сказуемом, пропуски членов предложения в неполных и эллиптических предложениях, пропуски противительных союзов; тире как бы компенсирует эти пропущенные слова, «сохраняет» им принадлежащее место: «Озеро в небо смотрит, небо - в озеро» («Озеро Сегден»); «Сердечная болезнь - как образ самой нашей жизни: ход её - в полной тьме, и не знаем мы дня конца: может быть, вот, у порога, - а может быть, еще нескоро-нескоро» («Завеса»).
2. Передает значение условия, времени, сравнения, следствия в тех случаях, когда эти значения не выражены лексически, то есть союзами: «Едва в сознании твоем хоть чуть прорвалась пелена - ринулись, ринулись они в тебя, расплющенного наперебой» («Ночные мысли»).
3. Тире можно назвать и знаком «неожиданности» - смысловой, интонационной, композиционной: «И еще спасибо бессоннице: с этого огляда - даже и нерешаемое решить» («Ночные мысли»); «Оно - с высокой мудростью завещано нам людьми Святой жизни» («Поминание усопших»).
4. Тире способствует передаче и чисто эмоциональное значение: динамичность речи, резкость, быстроту смены событий: «Да еще на шпиле - каким чудом? - крест уцелел» («Колокольня»); «Но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, взламывает чуткую ту натяженность: иногда чужое действие, слово, иногда твоя же мелкая мысль. И - чародейство исчезло. Сразу - нет той дивной бесколышности, нет того озерка» («Утро») .
Стилистическое своеобразие «Крохоток» характеризуется оригинальностью, неповторимостью синтаксиса.
Таким образом, широкий филологический взгляд на произведения А.И.Солженицына способен раскрыть большого мастера русского слова, его своеобразное языковое наследие, индивидуальность стиля автора.
Для творческого метода Солженицына характерно особое доверие к жизни, писатель стремится изобразить все, как это было на самом деле. По его мнению, жизнь может сама себя выразить, о себе сказать, надо только ее услышать.
Это и предопределило особый интерес писателя к правдивому воспроизведению жизненной реальности как в сочинениях, основанных на личном опыте, так и, например, в эпопее «Красное Колесо», дающей документально точное изображение исторических событий.
Ориентация на правду ощутима уже в ранних произведениях писателя, где он старается максимально использовать свой личный жизненный опыт: в поэме «Дороженька» повествование ведется прямо от первого лица (от автора), в неоконченной повести «Люби революцию» действует автобиографический персонаж Нержин. В этих произведениях писатель пытается осмыслить жизненный путь в контексте послереволюционной судьбы России. Схожие мотивы доминируют и в стихах Солженицына, сочиненных в лагере и в ссылке.
Одна из излюбленных тем Солженицына - тема мужской дружбы, которая оказывается в центре романа «В круге первом». «Шарашка», в которой вынуждены работать Глеб Нержин, Лев Рубин и Дмитрий Сологдин, вопреки воле властей оказалась местом, где «дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка. Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?».
Название этого романа символически многозначно. Кроме «дантовского», здесь присутствует и иное осмысление образа «первого круга». С точки зрения героя романа, дипломата Иннокентия Володина, существуют два круга -- один внутри другого. Первый, малый круг -- отечество; второй, большой -- человечество, а на границе между ними, по словам Володина, «колючая проволока с пулеметами… И выходит, что никакого человечества -- нет. А только отечества, отечества, и разные у всех…». В романе содержится одновременно и вопрос о границах патриотизма, и связь глобальной проблематики с национальной.
А вот рассказы Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» близки идейно и стилистически, кроме того, они обнаруживают и характерный для всего творчества писателя новаторский подход к языку. В «Одном дне…» показаны не «ужасы» лагеря, а самый обычный день одного зэка, почти счастливый. Содержание рассказа отнюдь не сводится к «обличению» лагерных порядков. Авторское внимание отдано необразованному крестьянину, и именно с его точки зрения изображен мир лагеря.
Здесь Солженицын отнюдь не идеализирует народный тип, но в то же время показывает доброту, отзывчивость, простоту, человечность Ивана Денисовича, которые противостоят узаконенному насилию уже тем, что герой рассказа проявляет себя как живое существо, а не как безымянный «винтик» тоталитарной машины под номером Щ-854 (таков лагерный номер Ивана Денисовича Шухова) и таково же было авторское название рассказа.
В своих рассказах писатель активно использует форму сказа. При этом выразительность речи повествователя, героев их окружения создается в этих произведениях не только словарными экзотизмами, но и умело используемыми средствами общелитературной лексики, наслаивающейся… на разговорно-просторечную синтаксическую структуру».
В рассказах «Правая кисть» (1960), «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела», «Захар-Калита», «Как жаль» (1965), «Пасхальный крестный ход» (1966) подняты важные нравственные проблемы, ощутим интерес писателя к 1000_летней истории России и глубокая религиозность Солженицына.
Показательно и стремление писателя выйти за рамки традиционных жанров. Так, «Архипелаг ГУЛаг» имеет подзаголовок «Опыт художественного исследования». Солженицын создает новый тип произведения, пограничный между художественной и научно-популярной литературой, а также публицистикой.
«Архипелаг ГУЛаг» документальной точностью изображения мест заключения напоминает «Записки из Мертвого дома» Достоевского, а также книги о Сахалине А. П. Чехова и В. М. Дорошевича; однако если раньше каторга была преимущественно наказанием виновных, то во времена Солженицына ею наказывают огромное количество ни в чем не повинных людей, она служит самоутверждению тоталитарной власти.
Писатель собрал и обобщил огромный исторический материал, развеивающий миф о гуманности ленинизма. Сокрушительная и глубоко аргументированная критика советской системы произвела во всем мире эффект разорвавшейся бомбы. Причина и в том, что это произведение -- документ большой художественной, эмоциональной и нравственной силы, в котором мрачность изображаемого жизненного материала преодолевается при помощи своего рода катарсиса. По мысли Солженицына, «Архипелаг ГУЛаг» это дань памяти тем, кто погиб в этом аду. Писатель исполнил свой долг перед ними, восстановив историческую правду о самых страшных страницах истории России.
Позднее, в 90_е гг. Солженицын вернулся к малой эпической форме. В рассказах «Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое варенье», «Эго», «На краях», как и в других его произведениях, интеллектуальная глубина сочетается с необычайно тонким чувством слова. Все это -- свидетельство зрелого мастерства Солженицына-писателя.
Публицистичность творчества А.И. Солженицына выполняет эстетическую функцию. Его сочинения переведены на многие языки мира. На Западе существует немало число экранизаций его произведений, пьесы Солженицына неоднократно ставились в различных театрах мира. В России, в январе-феврале 2006 была продемонстрирована первая в России экранизация произведения Солженицына -- многосерийный телефильм по мотивам романа «В круге первом», что свидетельствует о неугасающем интересе к его творчеству.
Рассмотрим лексическое своеобразие стихотворений Солженицына.
Стремление писателя к обогащению русского национального языка.
В настоящее время проблема анализа языка писателя приобрела первостепенную важность, так как изучение идиостиля конкретного автора интересно не только в плане наблюдения за развитием национального русского языка, но и для определения личного вклада писателя в процесс языкового развития.
Жорж Нива, исследователь творчества А.И. Солженицына, пишет: «Язык Солженицына вызвал настоящее потрясение у русского читателя. Существует уже внушительных объёмов словарь «Трудных слов Солженицына». Его язык стал предметом страстных комментариев и даже ядовитых нападок» .
А.И. Солженицын осмысленно и целенаправленно стремится к обогащению русского национального языка. Ярче всего это проявляется в области лексики.
Писатель считал, что с течением времени «произошло иссушительное обеднение русского языка», а сегодняшнюю письменную речь называл «затёртой». Утрачены многие народные слова, идиомы, способы образования экспрессивно окрашенных слов. Желая «восстановить накопленные, а потом утерянные богатства», писатель не только составил «Русский словарь языкового расширения», но и использовал материал этого словаря в своих книгах.
А.И. Солженицын использует самую разнообразную лексику: встречается множество заимствований из словаря В.И. Даля, из произведений других русских писателей и собственно авторские выражения. Писатель употребляет не только лексику, не содержащуюся ни в одном из словарей, но также малоупотребительную, забытую, или даже обычную, но переосмысленную писателем и несущую новую семантику.
В стихотворении «Мечта арестанта» мы встречаем слова: сызначала (сначала), не взмучая (не беспокоя). Такие слова называются окказионализмы или авторские неологизмы, состоящие из распространённых языковых единиц, но в новом сочетании дающие новую яркую окраску словам.
Это индивидуальное словоупотребление и словообразование.
Российский лингвист, учёный-языковед Е.А. Земская утверждает, что окказионализмы в отличие от «просто неологизмов» «сохраняют свою новизну, свежесть независимо от реального времени их создания».
Но основной лексический пласт А.И. Солженицына - это слова общелитературной речи, ведь иначе и быть не может. Так в стихотворении «Вечерний снег» всего несколько лексических окказионализмов: оснежил (засыпал), звездчатый (похожий на звёзды), низался, сеялся (падал).
Стемнело. Тихо и тепло.
И снег вечерний сыплет.
На шапки вышек лёг бело,
Колючку пухом убрало,
И в тёмных блёстках липы.
Занёс дорожку к проходной
И фонари оснежил…
Любимый мой, искристый мой!
Идёт, вечерний, над тюрьмой,
Как шёл над волей прежде…
В стихотворении есть и метафоры (на шапки вышек, таял в росинки), и олицетворения (ветви лип седые).
«А.С. Солженицын - художник, остро чувствующий языковой потенциал. Писатель обнаруживает подлинное искусство изыскивать ресурсы национального языка для выражения авторской индивидуальности в видении мира», - писал Г.О. Винокур.
Родина…Россия… В жизни любого из нас она значит весьма немало. Тяжело вообразить себе человека, не любящего свою Родину. За несколько месяцев до рождения Солженицына, в мае 1918 года, А.А. Блок отвечал на вопрос анкеты, - что следует сейчас делать русскому гражданину. Блок отвечал как поэт и мыслитель: «Художнику надлежит знать, что той России, которая была, - нет и никогда уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия - умерли…утратили бытие».
Л.И.Сараскина, известная писательница, утверждает: «Без преувеличения можно сказать, что всё творчество Солженицына обжигающе пристрастно нацелено на осмысление разницы той и этой цивилизации, той и этой государственности, той и этой религии».
Когда писателю А.И. Солженицыну задали вопрос: «Какой вам представляется сегодняшняя Россия? Насколько она далека от той, с которой вы боролись, и насколько может быть близка к той, о которой вы мечтали?», он ответил так: «Очень интересный вопрос: насколько она близка к той России, о которой я мечтал…Весьма и весьма далека. И по государственному устройству, и по общественному состоянию, и по экономическому состоянию весьма далека от того, о чём я мечтал. Главное в международном отношении достигнуто - возвращено влияние России и место России в мире. Но на внутреннем плане мы далеки по нравственному состоянию от того, как хотелось бы, как нам органически нужно. Это очень сложный духовный процесс»
С трибуны Государственной думы прозвучал его призыв о сбережении народа как актуальнейшей проблеме современной России.
Александр Солженицын-поэт в своём стихотворении «Россия?» стремится философски осмыслить драматическую судьбу России в контексте исторических имён и связей, пропуская былое через собственные ощущения, через свою душу:
«Россия!»… Не в блоковских ликах
Ты мне проступаешь, гляжу:
Среди соплеменников диких
России я не нахожу…
Так о какой же России мечтает писатель? Почему так мало видит он рядом с собой «подлинных русских»? Где же
Россия людей прямодушных,
Горячих смешных чудаков,
Россия порогов радушных,
Россия широких столов,
Где пусть не добром за лихо,
Но платят добром за добро,
Где робких, податливых, тихих
Не топчет людское юро?
Снова обращаем внимание на необычную лексику стихотворения:
как кремешками кресим (произносим твёрдо, часто);
и ворот, и грудь настежу (нараспашку);
каких одноземцев встречал (земляков);
людское юро (стадо, рой, стая);
властная длань (ладонь, рука); (это старославянское слово).
опёрен и тёпел играющий вспорх словца.
Созданные писателем слова реализуют творческий потенциал Солженицына, создают его индивидуальный стиль. Писатель использует и лексические, и семантические окказионализмы.
Лексические окказионализмы - это слова в основном одноразового употребления, хотя они могут использоваться и в других произведениях автора: иноцветно, зарость кустов, кудерьки альляные, ледочеккрохкий.
Семантические окказионализмы - лексемы, которые ранее уже существовали в литературном языке, но обрели новизну за счёт индивидуальных авторских значений: цветен… и тёпел играющий вспорх словца, безгневный сын, безудачливая русская земля.
Современный писатель Сергей Шаргунов пишет: «…я люблю Солженицына не за его историческую масштабность, а за художественные черты. Я не сразу его полюбил и, понятно, не во всём принимаю. Однако безумно мне нравится, как он писал. Кроме всяких идей, именно стилистически - это и тонко, и светло. Плачевное плетение и яростное выкрикивание словес. Он был очень-очень живой!»
В стихотворении «Россия?» 13 предложений, в которых содержатся риторические вопросы. Функция риторического вопроса - привлечь внимание читателя, усилить впечатление, повысить эмоциональный тон.
За внешней суровостью и «яростным выкрикиванием словес» мы видим человека неравнодушного, болеющего душой и сердцем за свою страну:
Где, если не верят в Бога,
То пошло над ним не трунят?
Где, в дом заходя, с порога
Чужой почитают обряд?
В двухсотмиллионном массиве
О, как ты хрупка и тонка,
Единственная Россия,
Неслышимая пока!..
«В самые чёрные годы Солженицын верил в преображение России, потому что видел (и позволил увидеть нам) лица русских людей, сохранивших высокий душевный строй, сердечную теплоту, непоказное мужество, способность верить, любить, отдавать себя другому, беречь честь и хранить верность долгу», - писал историк литературы Андрей Немзер.
Прочитав стихотворения А.И. Солженицына, можно с уверенностью сказать, что они представляют собой материал, выявляющий скрытые возможности русского национального языка. Основным направлением является обогащение словарного запаса за счёт таких групп, как авторская окказиональная лексика, разговорная лексика.
Окказионализмы, создаваемые автором как средство выразительности речи, как средство создания некоего образа активно используются уже более четырёх веков. В качестве средства выразительности в художественной, а особенно в поэтической речи, окказионализм позволяет автору не только создать неповторимый образ, но и читатель в свою очередь получает возможность увидеть и мысленно создать свой личный субъективный образ. А это значит, что можно говорить о сотворчестве художника и читателя.
Лингвистическая работа писателя, направленная на возвращение утерянного языкового богатства является продолжением труда классиков русской литературы: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова.
Творчество А. И. Солженицына – явление во многих отношениях уникальное, но вместе с тем глубоко укорененное в национальной традиции. Уже в самом начале своего творческого пути писатель вступает в жесточайшую схватку с теми силами, которые отринули вечные духовные ценности, заменив их голой идеологией или лозунгами материального потребления. Эту "космическую" по своей значимости битву Солженицын ведет на страницах всех своих книг – и художественных, и публицистических. Он бесстрашно обращается к самым острым проблемам современности, к запретным темам: воссоздает историю чудовищных преступлений тоталитарного режима против собственного народа, рассказывает о деградации колхозной деревни, о развращающем воздействии атеизма на духовное здоровье нации, о последствиях "демократических реформ" 1990-х гг. и т.д.
Мир многих его произведений – это мир идей, определивших направление движения русской истории XX в. По этой причине диалогическое столкновение персонажей иногда становится не столкновением характеров, индивидуальностей, а столкновением идей, "систем фраз", противоборством общественных или партийных позиций, философских, политических и иных воззрений, повлиявших на ход русской и мировой истории. Наибольший интерес в творчестве любого писателя представляют идеи, которые не излагаются риторически, а находят различные формы эстетического воплощения. Проза Солженицына в этом смысле не является исключением: в ней большей смысловой силой обладают не те идеи, которые предстают в оголенном виде, а те, которые растворены в системе художественных образов, просвечивают из глубины художественного мира. Изображаемое иногда в открыто декларативной, подчеркнуто неэстетизированной, публицистической форме противоборство философских, этических, социально-политических и иных идей является лишь одной из сфер художественного мира Солженицына – важной, необходимой писателю, но не единственной и не главной.
Солженицын являет собой тип художника, в творчестве которого органически соединяются временное и вневременное, острая социальная и национальная проблематика и универсализм. Созданный им художественный мир не может быть понят и объяснен только под углом зрения социально-политической актуальности. Мировоззренческо-эстетический идеал Солженицына устремлен к гармонической упорядоченности всего сущего. Главная желанная цель писателя – преодоление разрывающего мир релятивистского ценностного хаоса, восстановление гармонии человека с мирозданием, возвращение человека и человечества к Богу. По Солженицыну, жизненная цель человека состоит, наряду с духовным самосовершенствованием, в активной деятельности по "обустройству" дома, страны, всего мира, т.е. в осуществлении миссии по "космическому" упорядочению бытия. Однако на такое способен лишь тот, у кого выстроен гармонический порядок в душе, кто преодолел хаос в мировоззрении, в собственном внутреннем мире.
Метод Солженицына направлен на максимально достоверное отображение действительности, ее аналитическое исследование и оценку. Созданный им художественный образ мира является наглядным воплощением авторского знания о реальной действительности и этико-эстетического суда над нею. Находя опору в традициях классического реализма, писатель в то же время творчески обновляет принципы реалистического метода, приводя их в соответствие с изменившейся и усложнившейся действительностью XX в., с новейшими достижениями мировой художественной культуры. В области формы его проза несет па себе следы влияния не только русской классики XIX в., но и писателей следующего столетия – как реалистов, так и тех, чье творчество относят к модернистской традиции или же к эстетическим системам, основанным на синтезе реалистических и нереалистических тенденций. Мнение о Солженицыне-художнике исключительно как о традиционалисте несправедливо. Писатель смело выходит за рамки традиционных жанровых и повествовательных форм, отказывается от сюжета в его классическом виде, ломает композицию, использует приемы, пришедшие в литературу из кино. Оставаясь наследником традиций отечественной классики, Солженицын в то же время является художником остросовременным. Писатель создал оригинальный тип художественного мышления, который, в свою очередь, обусловил новаторскую систему поэтических принципов и форм. Произведения Солженицына трудно отнести к какому бы то ни было известному стилевому течению, поставить в какой-либо типологический ряд, втиснуть в рамки стандартных, типовых мировоззренческих и художественных моделей. Воплощенная в его творчестве система поэтических средств и основных принципов эстетического освоения действительности настолько сложна и многообразна, что противится любому однозначному определению, а потому всякая простая формула, предназначенная для исчерпывающего объяснения творческой индивидуальности писателя, будет заведомо неполной и в какой-то степени условной.
Уникальный жизненный и духовный опыт писателя отлился в строки его книг.
Первым произведением Солженицына, увидевшим свет, стал "Один день Ивана Денисовича" (1959), в авторской редакции имевший название "Щ-854 (Один день одного зэка)". Именно этот рассказ, опубликованный в № 11 журнала "Новый мир" за 1962 г., принес автору не только всероссийскую, но и мировую известность. В центре произведения – образ простого русского человека, сумевшего нравственно выстоять в жестоких условиях лагерной неволи. Один день героя разрастается до символа целой эпохи. В "одном дне одного зэка" автору удалось воплотить трагическую судьбу и одновременно внутреннюю стойкость русского народа, лишенного свободы, по нашедшего в себе силы выжить вопреки государственному террору, сохранить свою душу. Значение произведения не только в том, что оно открыло прежде запретную тему репрессий, задало новый уровень художественной правды, но и в том, что во многих отношениях (с точки зрения жанрового своеобразия, повествовательной и пространственно-временной организации, лексики, поэтического синтаксиса, ритмики, насыщенности текста символикой и т.д.) было новаторским. Солженицын применяет очень сложную повествовательную технику, основанную на полном слиянии, частичном совмещении, взаимодополнении, взаимоперетекании, а иногда и расхождении точек зрения героя и близкого ему по мироощущению автора- повествователя. Лагерный мир показан преимущественно через восприятие Шухова, но точка зрения персонажа дополняется более объемным авторским видением. Доминирующее в рассказе "объективное" повествование включает в себя несобственно-прямую речь, передающую точку зрения главного героя, сохраняющую особенности его языка, и несобственно-авторскую речь. Взгляд изнутри ("лагерь глазами мужика") чередуется со взглядом извне, причем на повествовательном уровне этот переход осуществляется почти незаметно.
В рассказах "Матренин двор" (1959), "Правая кисть" (1960), "Случай на станции Кочетовка" (1962) , "Захар-Калита" (1965), "Пасхальный крестный ход" (1966) Солженицын обращается к острейшим социальным и нравственным проблемам русской действительности, создает галерею ярких и разнообразных национальных характеров, исследует различные модели поведения человека, вовлеченного в драматические события русской истории.
"Крохотки" (1958–1960, 1996–1997) представляют собой цикл прозаических миниатюр, написанных от первого лица и проникнутых лирическим началом. Автор опирается на традиционную для русской литературы жанровую модель стихотворений в прозе, созданную И. С. Тургеневым и получившую развитие в творчестве писателей XX в. (И. А. Бунин, А. М. Ремизов, позднее – В. А. Солоухин, Ю. В. Бондарев, В. П. Астафьев), однако лиризм у него сочетается с уплотненно-афористичным эпическим повествованием. Сопоставление миниатюр, созданных автором в разное время, дает возможность лучше понять общую направленность его творческой эволюции. В "крохотках" рубежа 1950–1960-х гг. на первый план часто выходят социальные проблемы, зло имеет ярко выраженный социальный характер. В поздних миниатюрах, написанных уже после возвращения писателя на родину, доминирующее положение занимают вечные проблемы: добро и зло в их общефилософском, общеэтическом смысле, жизнь и смерть, временное и вечное. Историческая и бытовая конкретика органично сплавляется с архетипическими образами, онтологической символикой; неповторимые мгновения жизни укрупняются и соотносятся с вечностью, события далекого прошлого – с современностью. В "Крохотках" большое внимание уделяется ритмике, музыкальному строю речи, интонации, звучанию слова.
В самом, пожалуй, традиционном произведении Солженицына – повести "Раковый корпус" (1963–1967) явственно ощутимо влияние классического реализма, прежде всего Л. Н. Толстого. Страшная болезнь сводит в одной больничной палате людей, имеющих разный жизненный опыт, разное социальное положение и разные взгляды. Перед лицом возможной смерти одни из них задумываются о том, как они прожили жизнь, пытаются посмотреть на свои поступки сквозь призму морально-религиозных вопросов Толстого: "Чем жив человек?", "Для чего живет человек?" Другие даже на узкой грани между жизнью и смертью пытаются уйти от нравственного суда над собой, отвергают раскаяние как единственно возможный путь спасения собственной души.
Трехтомный "Архипелаг ГУЛАГ" (1958–1968, 1979), имеющий подзаголовок "Опыт художественного исследования", – обобщающее произведение писателя о лагерном мире, вобравшее в себя как личный опыт автора, так и опыт 227 других свидетелей величайшей народной трагедии. Эта уникальная в жанровом отношении книга, основанная на синтезе художественного и документального начал, стала наиболее полной "энциклопедией" лагерного мира, воссоздающей его историю с 1917 по 1956 г. В основу композиции автор положил принцип последовательных глав о тюремной системе, арестах, следствиях, судах, этапах, исправительно-трудовых лагерях, каторге, ссылке и т.д. В книге подробно воссоздается история перемалывания в жерновах ГУЛАГа сословий, политических партий, целых народов, миллионов ни в чем не повинных людей. Само название произведения стало трагическим знаком эпохи, самым емким символом беспрецедентно масштабных репрессий коммунистического режима против собственного народа. Если для писателей-соцреалистов подлинной историей советского государства была череда великих свершений и побед, то для автора "Архипелага" единственно реальной историей Страны Советов является "история нашей канализации", т.е. ГУЛАГа; все остальное – жалкие декорации. Таким образом, Солженицын ставил перед собой глобальную задачу: рассказать подлинную историю первого рабоче-крестьянского государства.
Помимо этого, одной из идейных и сюжетно-композиционных доминант книги становится тема прозрения и духовно-нравственного преображения человека в лагерном мире. Темы грехопадения, страдания и восхождения человека и человеческой души относятся к категории вечных, универсальных. Некоторые же читатели видят в книге Солженицына преимущественно политический памфлет, направленный против коммунизма, обвинительный приговор, разоблачение, суд над идеологией и ее сторонниками, летопись кровавых злодеяний преступного режима и т.п. Все это в произведении есть, однако кульминационной и наиболее универсальной по своей значимости является четвертая часть ("Душа и колючая проволока"), в которой автор показывает борьбу сил добра и зла в человеческом сердце, в душе. Именно в этой части автор приходит к выводу, что источником социального зла являются прежде всего сами люди. Общество, основанное на иных, чем в ГУЛАГе, принципах, царство всеобщей правды невозможно построить, не пройдя через очищение и раскаяние, – такова ключевая нравственная идея Солженицына, совпадающая с евангельским призывом к покаянию.
Историческая эпопея "Красное Колесо" (1965–1990), в которую входят четыре "Узла": "Август Четырнадцатого", "Октябрь Шестнадцатого", "Март Семнадцатого" и "Апрель Семнадцатого", – посвящена художественному исследованию Февральской революции, ее предпосылок и возможных последствий. Революционная эпоха, представленная в динамике – главный сюжетно-композиционный и идейный нерв произведения, тот стержень, вокруг которого выстраиваются все художественные структуры "Красного Колеса". Опираясь на собранный им огромный фактический материал, автор создал грандиозное художественно-документальное полотно: десять томов общим объемом свыше 6 тыс. страниц. Каждый из четырех "Узлов" "повествованья в отмеренных сроках" охватывает сравнительно небольшой отрезок времени (от 12 до 24 дней), что позволяет автору максимально подробно, детально реконструировать кульминационные события революционной эпохи. Февраль 1917 г. писатель считает главным событием мировой истории последнего столетия – событием, ознаменовавшим начало крушения постпросвещенческой либерально-гуманистической цивилизации. В "Красном Колесе" художественно исследуются не только собственно Февральская революция, но и, в более широком смысле, открывающая целую эпоху в развитии человечества глобальная "космическая" катастрофа, потрясшая в XX столетии до основания Россию и всю мировую цивилизацию. "Катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного сознания" – так писатель определил ее характер в программной "Гарвардской речи" (1978).
В ряде публицистических работ Солженицын высказывал мнение, что катастрофа 1917 г. "произошла в духе раньше, чем в реальности", что Февральская революция имела столетнюю подготовку в философии и публицистике и проявилась прежде всего как революция идеологическая. В своей эпопее он поставил задачу не только воссоздать во всех подробностях динамику узловых революционных событий, но и представить на суд читателей те идеологические системы, которые подготовили крушение самодержавной России. Для того чтобы решить эту задачу, писатель создал оригинальную жанровую модель и не менее уникальную структуру повествования, которые позволили ему представить все основные системы взглядов, нашедших отражение в общественной жизни России конца XIX – начала XX в., показать их как изнутри, с точки зрения сторонников, активных пропагандистов этих взглядов, так и извне, т.е. в восприятии непримиримых противников. "Красное Колесо" – нс роман в десяти томах, не цикл романов, а эпопея, по определению самого автора, "следующая по крупности за романом прозаическая форма: где единичные судьбы персонажей уже не столь центральны, не столь даже и важны, не ими замыкается обзор, но поднимается выше – к событиям эпохи, целой страны, к лицам уже не сочиненным, а историческим, и к действиям их в реальных событиях".
Изображаемая в произведении действительность пропущена через восприятие сотен персонажей – как реальных (Столыпин, Николай II, Ленин, Родзянко, Милюков, Гучков, Керенский, Колчак, Корнилов и др.), так и вымышленных (Воротынцев, Благодарёв, Лаженицын и т.д.). В главах с их участием автор почти полностью исключает себя как самостоятельный субъект сознания и повествования: в них доминирует внутренний голос героя. Вместе с тем все озвучиваемые персонажами точки зрения на самом высшем идейно-концептуальном уровне произведения включены во всеобъемлющее "завершающее" сознание автора как творца художественного мира. О полковнике Воротынцеве автор пишет, что тот, пропустив за годы войны через свой полк несколько составов, "узнал, запомнил, ёмко уместил в себе шестьсот – восемьсот – или тысячу лиц, характеров, жизненных историй". Нечто подобное можно сказать и о самом творце эпопеи, "емко уместившем в себе" несколько сотен своих персонажей. Автор как создатель объемной эстетической концепции бытия "примеряет" на себя все имеющиеся в его произведении идеологические позиции, все "системы фраз" и в той или иной форме дает им оценку. Он не только "предоставляет слово" многочисленным персонажам эпопеи, но и ведет напряженный диалог со сложившимися в общественном сознании Нового времени философскими, политическими, экономическими, историософскими, этическими, эстетическими и другими системами взглядов.
Художественный мир "Красного Колеса" объемен, но не полифоничен в строгом смысле этого слова. Для характеристики нарративной организации произведения, а также созданной автором художественной модели мира более уместен не термин "полифония" (что, по сложившейся традиции, связано с представлением о полном равноправии голоса автора и голосов персонажей), а слово "стереофония". Это понятие представляется более предпочтительным именно потому, что значения равенства звучащих в произведении голосов за ним не закрепилось. В обычном смысле стереофония (от греч. stereos – твердый, пространственный и phone – звук) означает передачу или воспроизведение звука, при которых сохраняется возможность восприятия пространственного расположения источников звука и создается эффект объемного звучания. Стереофония в данном смысловом контексте – повествовательный принцип, позволяющий автору произведения при помощи "узлового" совмещения множества смежных голосов: голоса автора-повествователя (он играет организующую роль) и голосов сотен реальных и вымышленных персонажей; опосредованно звучащих в произведении голосов выдающихся художников и мыслителей; голоса самой непосредственно воссоздаваемой революционной эпохи, т.е. голосов, предстающих в форме различных документальных свидетельств, создавать объемную модель изображаемой эпохи.
- В первой публикации (Новый мир. 1963. № 1. С. 9-42) рассказ по настоянию главного редактора журнала Л. Т. Твардовского был переименован в "Случай на станции Кречетовка". Вынужденная замена подлинного названия станции (Кочетовка) на вымышленное (Кречетовка) объясняется острым противостоянием "Нового мира" и журнала "Октябрь", во главе которого тогда стоял В. А. Кочетов. Позже автор восстановил первоначальное заглавие произведения.
Споры о творчестве Александра Солженицына обычно уходят далеко за пределы литературы, в область истории. И именно там, в обстоятельствах жизни писателя до того, как он стал известным, следует искать истоки его убеждений и воззрений. Молодость Александра Исаевича отражена в первом в России музее его имени, открывшемся накануне в Кисловодске, в его любимый православный праздник Троицы. Там он родился и провел детские годы.
И критикам, и почитателям
Александра Солженицына в России воспринимают неоднозначно, особенно сейчас, когда резко обострился раскол между поклонниками СССР и его хулителями. Для первых Александр Исаевич – это автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», которая нанесла серьезный удар по советской государственной системе и способствовала крушению страны. Для вторых – это смелый человек, не побоявшийся рассказать о черной стороне строителей светлого будущего.
Но чтобы лучше понять, что двигало им, когда он писал «Один день Ивана Денисовича» или «Архипелаг ГУЛАГ», надо знать его биографию, проникнуться духом эпохи, которая породила этого писателя.
Такую возможность теперь предоставляет первый в России музей Александра Исаевича Солженицына, открытый накануне в Кисловодске, недалеко от «Дачи Шаляпина».
Заведующий этим новым отделом Государственного литературного музея Александр Подольский так изложил корреспонденту КАВПОЛИТа свою позицию по отношению к писателю: «Я много мнений разных слышал и читал, такой Солженицын или не такой. Но, во-первых, он наш земляк. Во-вторых, уроженцев Кисловодска, получивших Нобелевскую премию, больше нет, и нравится нам или нет, интерес к его творчеству – огромный».
Теремок с резной деревянной мансардой, в котором провел первые годы жизни Саша Солженицын, непросто найти в лабиринте почти вплотную окружающих его строений. В 90-е годы территория вокруг заброшенной старинной двухэтажной дачи была продана частной компании под строительство санатория, и сейчас к музею относится лишь небольшой дворик.
Родился будущий писатель не в этом здании. Родной дом его деда по материнской линии Захара Щербака снесли лет 40 назад. А эта дача принадлежала тете Солженицына Марии Гориной, сестре его матери. Здесь маленький Саша прожил с двух до шести лет, с 1920 до 1924 года.
Когда Александр Исаевич посетил Кисловодск в 1994 году, дом пребывал в жалком состоянии. Перекрытия рухнули, лестница на второй этаж обвалилась. Писателю было больно смотреть на это запустение.
Только после смерти Солженицына в 2008 году началось восстановление историко-культурного памятника. Проект музея придумал художник-экспозиционер Юрий Решетников.
«Сохранившихся из этого дома предметов нет в принципе. Мы бы сказали неправду, если бы положили сюда вещи из его взрослой жизни, которые были никак не связаны с Кисловодском. Чтобы эффективно использовать маленькую площадь и обыграть тот момент, что здесь нет мемориальных вещей, Юрий Васильевич предложил сделать музей в жанре информационно-культурного центра, – рассказала корреспонденту КАВПОЛИТа Ольга Данильченко, руководитель дизайн-проекта музея после смерти Юрия Решетникова в 2012 году.
Мы просто создавали образ эпохи и человека, который существовал в эту эпоху. Поэтому у нас не было необходимости при сегодняшних технических возможностях пользоваться оригинальными документами и вещами. Мы использовали прямую печать на пластике. Она долговечна, нескоро выгорает».
На первом этаже музея только одна большая комната. Витрины с фотографиями, макетами и книгами оснащены «хитростями», которые позволяют виртуально расширить пространство. Можно включать звук и видеоролики, вращать некоторые витрины, использовать электронный информационный стол и проектор с большим экраном. В маленькой комнатке у главного входа расположен сенсорный экран, на котором можно смотреть фильмы об Александре Исаевиче и интервью с ним. Можно брать планшеты с наушниками и слушать экскурсионную лекцию о жизни Солженицына.
На втором этаже поместилась только комната для сотрудников и администрации. А в мансарде в будущем планируется устроить маленькую обсерваторию для школьников в память об уроках физики и астрономии, которые проводил для советских ребят Солженицын. Телескоп для этого уже приобретен, но пока стоит на втором этаже.
Создатели музея рассчитывают, что он станет многофункциональным. В нем можно проводить конференции, «круглые столы», семинары, творческие вечера и камерные концерты.
Тон церемонии открытия музея задал народный артист России Александр Филиппенко, зачитав окончание повести «Один день Ивана Денисовича» о рутинной жизни советского зэка. Его мрачный посыл подхватил стихотворением Анны Ахматовой председатель комитета по культуре Госдумы, народный артист России Станислав Говорухин: «Мне голос был. Он звал утешно. // Он говорил: "Иди сюда, // Оставь свой край глухой и грешный. // Оставь Россию навсегда».
По словам Станислава Сергеевича, Солженицын добровольно уезжать из страны не хотел. Его «вывезли в наручниках, впихнули в самолет и выслали из России». Но он всегда верил, что вернется обратно, и не просто книгами и памятью, а живым человеком. «Настолько у него была крепка духовная связь с родиной, что он даже помыслить не мог иного развития событий, что может умереть не на родине, – напомнил Говорухин. – И, конечно, вернулся живым, здоровым, полным сил, вернулся и книгами. И этот музей – это тоже возвращение великого писателя на Родину».
Когда-то одна из строк «Крохоток» Солженицына больно резанула Станислава Говорухина по сердцу: «Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину». «Это так соответствовало в те годы моему настроению, моему пониманию того, что происходит в стране, – признался артист и депутат. – И вот я сегодня подумал, что Александру Исаевичу было бы приятно услышать, что сегодня я, по крайней мере, этого чувства позора за свою родину не испытываю».
Красные колеса кисловодских паровозов
Вдова Александра Исаевича Наталья Солженицына поблагодарила всех, кто участвовал в создании музея – от Юрия Решетникова до Владимира Путина, «который отдал такое распоряжение, буквально отойдя от гроба Александра Исаевича в 2008 году, когда приехал проститься с ним в Академию наук».
В Кисловодске семейство Солженицыных, включая сына писателя Ермолая и внуков Ивана и Екатерину, чувствовали себя как дома, ведь из Ставропольского края происходят их предки и по линии Александра Исаевича, и по линии Натальи Дмитриевны.
Она вспоминает, как в 1994 году писатель сидел на лавочке возле обветшавшей дачи Гориной и делился детскими впечатлениями, которые впоследствии записал: «Первое и сразу очень яркое: залитая солнцем небольшая чистая угловая комната, посреди которой я лежу в кроватке с веревочной сеткой и помню, куда головой, и понимаю, какой хороший день, а мама подходит со стороны. Почему-то только этот день и момент только и остался от тысячи лежаний в этой кроватке».
«Эта кроватка стояла возле окна, где сейчас стоит пресса, – пояснила Наталья Солженицына. – Эта комната была перегорожена на несколько маленьких, и он мне рассказывал все это на скамеечке, сидя у главного входа. Тогда здесь ничего не было построено, была большая площадь, как на той фотографии с кабриолетом».
Солженицын тогда вдруг осознал, что в подсознании всегда держал паровозный круг в Кисловодске, где локомотив менял свое направление на противоположное.
А сейчас думаю: называя свои книги то кругом, то колесом, нисколько я не вспоминал о Кисловодске, а может быть, заложено оттуда? Может быть, все главные образы и закладываются в том возрасте? Уж во всяком случае, все эти поражающие красные колеса тогдашних паровозов, и еще много лет повидал их, живя близ железных дорог, и в их страшном давящем движении так врезались в детскую память. Первое же появление колеса в романе «Красное колесо» и есть такое, – зачитала Наталья Дмитриевна пока нигде не публиковавшиеся строки. Может быть, они попадут в тридцатитомное собрание сочинений писателя, которое, по словам директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака, сейчас готовится к выходу.
Семья писателя перед открытием музея побывала на кладбище в Георгиевске, где была найдена могила матери писателя Таисии Захаровны Щербак. Сын Солженицына Ермолай заявил, что это не просто возвращение к корням после того, как революционные события «выкинули» из этих мест их родовую ветвь, но и восстановление святынь. Церковь Святого Пантелеймона, куда маленького Сашу дед носил на церковные праздники, долгое время использовали под склад, под спортзал, а при Хрущеве полностью разрушили. Сейчас ее заново возводят.
Поздравления Солженицыным, жителям Кисловодска и всем почитателям писателя через своего заместителя Владимира Аристархова передал министр культуры России Владимир Мединский, напомнив о скором столетнем юбилее со дня рождения Александра Исаевича. В свою очередь директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак зачитал приветствие советника президента России по культуре Владимира Толстого, по словам которого Солженицын «каждым написанным им словом, каждым поступком служил своему Отечеству».
«Отец лично воспринимал трудные главы нашей истории»
Мысли о России никогда не покидали писателя, даже когда он жил в США, в Вермонте, рассказал корреспонденту КАВПОЛИТа сын Александра Солженицына Ермолай:
«Отец старался сам и учил нас уплотнять время и использовать его максимально полезно. Он всегда был очень сфокусированным, глубоко заинтересованным в поиске путей развития России, переживал и лично воспринимал трудные главы нашей истории. Он и с нами часто обсуждал историю и текущие события в стране, в обществе, в мире. В детстве еженедельно мы проходили с ним не только уроки математики, астрономии, но и российской истории конца XIX – начала XX века.
Вообще тот факт, что мы выучили русский язык, проживая в Вермонте, – это результат целенаправленного желания родителей.
Конечно, в эмиграции он сильно скучал по России. Добровольно бы он не уехал. Его выслали. Условия для работы в Вермонте были хорошие. У него был широкий доступ к архивным материалам. У него было рабочее пространство, тишина, чтобы не отвлекаться. Это было хорошо, но он всегда стремился вернуться.
Он 20 лет без перерыва старался осознать, как же мы попали в этот ужасный коммунистический век, и изложил свое понимание, как нам обустроить Россию. Он хотел, чтобы она была сильной, свободной, прекрасной и богатой».